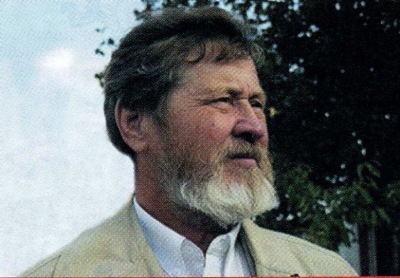«…народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу себя ошибкою, а напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он соскочил у нас, как паровоз с рельсов. …коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своем, а на чужом языке, то мы уже поплатились за язык дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаемся межеумками» В.И. Даль
Личутин В.В.
На окне лежало октябрьское, схваченное морозцем бледно-голубое небо, на воле стояла тихая запоздалая радость, и мерзость сна скоро сгладилась, но в сердце моем, не угасая, играла серебряная ледниковая река. На родину надо, решил я, ну конечно, домой, в родные палестины, на отчую землю. «Где гриб родился, там и пригодился». Вот почему не спится, вот отчего тягостно, муторно, сердце ноет.
Из рязанских мест, полных красоты и покоя, влечет не город, где много оставлено сил, но Север свой. Не вообще земля зовет, но отчая, матина, ее музыка живет во мне, потихоньку подгуживает, волынит на своей волынке. Кто-то незримый щипнул струны, связывающие с милым краем, и они откликались во мне. Так-то и живется вроде бы, терпится до того мгновения, пока не щипнут за струны и мучительно не вскрикнет на сердце беззвучный зов: «Сы-но-ок, где ты?» Вот, кажется, бросил бы все и в ту же минуту помчался на перекладных.
Вот говорят: одному из близких людей плохо иль при смерти он – другому мучительно и скорбно на другом конце земли за тыщи верст. Убивали на войне солдатика, и супружница его вдруг видела зов, иль знак вещий, иль мучительный сон. И, очнувшись середка ночи, вглядываясь в темный провал окна, воскрикивала: ой, погиб ведь родненький! И начинала кататься по полу и выть. А после вместе с рассветом сотрется сон, отправится бабонька на работу, закружится в делах, виденье попритухнет и покажется наваждением, но, однако, будет неслышно тлеть в груди. А через полгода, глядишь, и похоронка: и оказалось, что убило благоверного тем самым днем, когда привиделось, причудилось, поблазнило иль явило знак.
С мезенской крестьянкой Анной Николаевной Кашуниной случилось подобное: «В войну это было. Когда брата Николая в войну взяли, я в лес ушла робить, на лесоповал… Ну вот, работаю я в лесу, сучки карзаю и вдруг слышу в чаще-то: “Ню-ю-ра!” Я и признала голос-то: брат родной меня вызывает, будто о помощи просит. Откель, думаю, брателко-то взялся, на фронте ведь воюет. Стою, как дура, напряглась вся, сердце о ребра колотится. И опять эдак-то: “Ню-ю-ра!” Я к девкам: слышали, нет ли, как брателко меня кличет? Нет, говорят, не слышали, должно быть, леший с тобой заигрывает. Как смена кончилась, я в избушку пришла. Темная такая избушка была, вся в саже и при одном оконце, а по бокам лежанки. На лежанке-то я и написала: “23 февраля у меня завопело, весть подало”. И весь день крик этот в ушах стоял. А через неделю подруга моя, сменщица, из деревни вернулась: к вам, говорит, Нюра, похоронка пришла с войны, брателка твоего Николая убило. Тут у меня разом все внутри отвалилось, топор бросила, не могу робить. И надо же такому случиться: погибал Николай черт-те где, в какой дали, а меня вспомнил, весть мне пода л, и я ее услышала…» (Из очерка О. Ларина «Печенье по-лешуконски»).
Вот те же самые зовы, как мне кажется, излучает и малая родина. А приметы – это иное, уже второе что-то, не столь существенное. Ведь загодя знаю, что все повторится: приеду, поживу пару дней, и скоро прискучит тамошняя жизнь, заведенная иными людьми, иное пиво варится, иное тесто бродит в квашне; уже все иное, незнакомое, почти чужое, многое личное, памятное стерлось, небо, и лес, и воды уже потеряли прежние очертанья, природа уже не моя, не омыта сердечным чувством, да и я, побродяжка, уже потерялся для нее. Так неужели земля зовет? Нет, наверное, мать думает непрестанно, и ее чувства передаются, отзываются, щемят.
Конечно, мать не терпится увидеть, прикоснуться к ее морщиноватой веснушчатой коже, запечатлеть взглядом, как поникла, стопталась она, но и меж тем ободрить, вот ты, дескать, и не стареешь вовсе, все как молодая, хоть замуж выдавай: но внутри-то, чего греха таить, вздрогнет, опустится на мгновение, и тут почувствуешь въяве, как скоро летит время. Но и обрадуешься, возликуешь, что, благодаренье Богу, мать еще сама по себе ведет дом, а значит, и твой край приотодвигается, принакрывается маревом.
Ну хорошо, а что случается с теми, кто волею обстоятельств и судьбы очутился на чужбине и много лет коротает в иных пределах? Язык переиначился, почти забылся кровный, и сам человек внешне приобтерся, легла на личину косметика тамошнего уклада; и предки давно на погосте, и мать, поди, уже стерлась из воспоминаний, осталось лишь смутное зыбкое пятно, обозначающее «мама», и реальные приметы смылись чужбиною. Казалось бы, какая разница, где лечь в домовину, не один ли пространственный червь, не забудет он, выпьет, выгложет. Как говорят, один удел всем пасть под косою. И вот в последние остатние дни все готов отдать человек, чтобы вернуться на родину, в свой отчий край и там лечь, на своем жальнике, рядом с папинькой-маменькой. И нажитого имения не жаль, все готов отдать иной человек лишь за единственное благо лечь в землю предков.
Вот и представьте себе, как мучительно, как требовательно трубит о себе малая родина. Будто бы сама земля тоскует по потеряже, по скитальцу: вот, дескать, народила тебя, чтобы ты возрос, после меня обиходил, лелеял и вернулся в то лоно, откуда явился на свет. Это мать-земля страдает по сыне, и страдание ее разливается куда как далеко, не имея границ.
Вы скажете: а иному все трын-трава, и твои возлияния ему неведомы. Я же отвечу: да, есть меченые, есть дурнина, но чаще – скрытные, замкнутые, задавленные суетою. Мне представляется: кто реже тоскует по родине, тот быстрее позабывает язык…
… Оказывается, поморский, свойский удел, прибежище предков, Зимний берег глубиною в тридцать верст – уже не просто родина отдельному человеку, но огромная, непостижная, неведомая земля. Наш характер сузил понятие родины до отдельного местечка с запомнившимися пометами его. Мы, люди, всем сердцем припадающие к земле, словно бы пугаемся потеряться на ней, растеряться, заблудиться и ищем крохотные памятные вешки на ее теле, чтобы удостовериться в своем временном присутствии на ней. Так слепой в страхе и ужасе судорожно хватается за кушак поводыря, чтобы не потеряться в темени, и тогда скрюченные пальцы его обретают чудовищную силу. И от страха потеряться мы храним в памяти излуку реки, омут, травяное озерцо, приметное дерево на веретье, иль домашнюю живность, иль соседа с особым обличьем. Как гибко это состояние образа родины, как переливчиво и вместе с тем жестко, категорично заковано. «Своя земля и в горсти мила». Своя-я-я-а… И родина вдруг уменьшается до насыпанной в тряпишный мешочек землицы со своего печища, с капустищ и репищ, вскопанных тобою на задах родной избы. Оказывается, наша духовная память вроде бы требует конкретных замет, чтобы обнадежить, уравновесить наше состояние на миру, придать нашей жизни длительность в пространстве и бесконечность во времени. И снова я ловлю себя на мысли, что материализовал неуловимое, попытался сунуть его в холщовый мешочек, в тряпицу, чтобы прикоснуться к тайне. Хорошо, ежели есть своя земля, свое печище, свой род, своя судьба.
Но вот я представил Бородинское поле, эти неисчислимые воинства, упершиеся друг в друга. Ну ладно, тех пылких французов влекла самовлюбленность, их собственное кажущееся превосходство расплескивалось через край; смуглым солдатам не столько хотелось дувана, чужого добра, сколько показать себя на миру, похвалиться силою и талантами, а тем самым утереть нос низкому азиату.
Что там говорить: иная была война, и человек, несмотря на всю кровищу и ужасы смерти, все-таки не наслаждался униженьем ближнего; кознь знала меру, добродетель торжествовала, несмотря на всю грязищу и унизительность войны. Гнусные игры придут позже. Француз, вошедший в непонятные чужие земли, наверное, нес на груди в ладанке прах родины. Но что было защищать русскому солдату?
Бессрочнику, крепостному, который не имел ни земли, ни дома родного, ни особых земных утех. А он вот шел навстречу ворогу грудь в грудь, штык в штык и слышал, как сталь с хрустом пронзала грудь соседа, как сапог с чавканьем ступал по груди павшего, когда тенистый смутный овраг был вровень забит трупами, и конница мчалась, не зная преграды. И этот вонючий от пороховой гари воздух, эти дымные, в слепящих вспышках облака, эти сумерки от дыма пожарищ и зловонье от павших, не погребенных братьев. И неужели в этом смраде, в этом гуле и вороньем клокоте мог струиться, мог как-то жить зов родины? Может, он и вспыхивает именно в эти минуты, когда бренная жизнь вдруг теряет всякий смысл, и тогда умирают друг подле друга с радостью и нетерпением. Зов родины, как объяснить его?
Скверна войны не только в том, что понапрасну тратятся лучшие силы, но и в том, каким бесстыдным унижениям предаются павшие, те самые герои, усилиями которых вживе остается Родина. Они, павшие, лишаются, быть может, той единственной чести, что отличает нас от зверья – быть отпету в кругу семьи и похоронену на родном жальнике подле всей родины своей.
Помню, как это чувство впервые навестило меня на Бородине и поразило в самое сердце. Я представил, как сгрудились здесь триста тысяч человек, два живых шара ударились друг о друга, высекая искры и молоньи. Потом все кончилось, отлетели в занебесье молоньи и смиренные, беспечальные героические души. Руководимый озарением Кутузов вдруг отступил, а соратники его остались на поле боя, как валы сена, во власти воронья.
Обратно русские войска вернулись ненастным днем поздней осени, в окрестных деревнях сзывали добровольцев, ибо вызревала эпидемия от десятков тысяч трупов, и крестьяне принялись стаскивать наших героев крючьями в большие копны, как самую обычную падаль, а после, превозмогая отвращение, сожгли их в кострах. Вот она, изнанка войны. Потом на месте побоища, на месте этих кострищ встали многие надгробья, но они запечатлели лишь всеобщий подвиг, а пыл и огонь каждого в отдельности Ивана разве канул в бездну? Разве сам дух Родины иссякнул, разрядился, потускнел? иль менее сопровождал солдата в последующих кровопролитьях?
Некоторые утверждают, что чувство родины приходит в нацию вместе с государственностью. Но как-то трудно поверить, что пращур наш был начисто лишен любви к своей земле отичей и дедичей и мог блуждать по ней, как беспечальное и случайное травяное семя. Мне думается, святое это чувство необъяснимо и входит оно в нас с молоком матери-роженицы – рода – родины. Духовное молоко Родины само по себе разлито в том пространстве, где ты явился на белый свет.
ЛИЧУТИН В. В. РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОМ НАРОДЕ
Читайте также: Русский язык как хранитель цивилизационных кодов